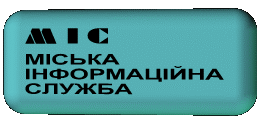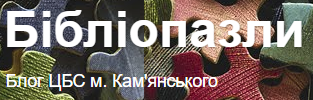Ингрид Бергман. Как создавалась «Осенняя соната» /Ingrid Bergman about “Autumn Sonata” //Искусство кино № 10 1988
Из книги «Моя жизнь»
[Книга «Моя жизнь» (1980) написана известной шведской и американской актрисой Ингрид Бергман (1915— 1982) совместно с журналистом Аланом Берджесом. Мы печатаем одну из глав книги с небольшими сокращениями.
© Ingrid Bergman, Alan Burgess. Mitt Liv. Norstedts Forlag. Stockholm. 1980]
У Ингмара Бергмана не сложились отношения со Швецией. В январе 1976 года он был арестован полицией во время репетиции в театре Драматен и предстал перед властями по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
Его допрашивали в течение пяти часов, а его дом и бумаги были перевернуты вверх дном. Единственное обвинение, которое власти выдвинули против него, вскоре же было отменено судом, освободившим его. Но Бергман счел такое неслыханно наглое обращение с ним властей непростительным и полностью противоречащим его собственным представлениям о справедливости и цивилизованном поведении. Он покинул Швецию. Потом он пытался поселиться в Америке, в Европе и, наконец, осел в Мюнхене. В Швеции он оставил только свой дом на острове Форе, который он не рассматривал как шведскую территорию. Свои фильмы он стал делать за пределами Швеции.
Впервые я встретила Ингмара Бергмана примерно 15 лет тому назад. Он знал Ларса [Ларс Шмидт — муж Ингрид Бергман. (Здесь и далее прим. переводчика и редакции)] очень давно. Они оба начинали свой творческий путь в городском театре Мальмё. Однажды они сели на катер, чтобы переплыть из Швеции в Данию и побывать там в театре. Когда спектакль окончился, было уже темно, и Ларс стал подумывать о том, чтобы остановиться в какой-нибудь гостинице, но тут Ингмар заявил, что он должен ночевать в Швеции.
— Но ведь ты будешь видеть Швецию,— протестовал Ларе.— Это ведь так близко.
Но все было напрасно: Ингмар не хотел ночевать в чужой стране. Я никогда не думала, что у человека могут быть такие глубокие корни.
Когда я встретила Ингмара много позже в Париже, в шведском посольстве, он показывал свою постановку «Сказки» Я. Бергмана. Ему было неуютно вне родины, и я тогда подумала, что он как хорошее вино, которое не выдерживает транспортировки. Мы все отправились в старый театр Сары Бернар, чтобы посмотреть Биби Андерсон в «Сказке», а затем Ингмар возвратился в Швецию. В тот раз нам не удалось поговорить друг с другом.
Спустя несколько лет я завтракала в Стокгольме в обществе Ларса и Ингмара, и на этот раз между нами мгновенно возникла взаимная симпатия. Он сказал, что нам надо вместе сделать фильм. Я очень обрадовалась, услышав это. Сама бы я не решилась затронуть эту тему, потому что знала, что он почти всегда работает с одной и той же группой артистов, операторов и технического персонала. Он назвал книгу «Начальница госпожа Ингеборг» нашего однофамильца Я. Бергмана и сказал: «Разве не забавно, что на одной афише сразу будут стоять три фамилии Бергман и все они вовсе не родственники друг другу?»
Некоторое время спустя он решил, что напишет новый сценарий для нашего фильма. Потом я узнала, что Ингмар назначен художественным руководителем театра Драматен, и это приостановило осуществление наших планов.
Я поздравила его и выразила сожаление, что теперь у него не будет времени сделать наш фильм. В ответ он написал: «У меня в голове записано огненными буквами: поставить фильм с Ингрид Бергман». Но после этого я долго ничего не слышала об Ингмаре.
Несколько лет спустя меня попросили возглавить жюри на кинофестивале в Канне. Перед отъездом туда я просматривала содержимое некоторых ящиков, чтобы выбросить множество старых писем. У меня есть дурная привычка ничего не выбрасывать. Тогда-то я и наткнулась на письмо Ингмара, где он писал о словах, выжженных в его сознании. Письмо было десятилетней давности.
Я знала, что он должен приехать в Канн для показа своего внеконкурсного фильма «Крики и шепоты». Поэтому я сделала фотокопию его письма, приписав внизу: «Кладу тебе в карман это письмо не потому, что обижена или задета, а чтобы напомнить, как летит время».
Я увидела его в Канне среди многочисленных фоторепортеров и журналистов. Подойдя к нему, я сказала: «Я кладу тебе в карман это письмо».
— Мне нельзя прочитать его тотчас же? — спросил он смеясь.
— Нет, прочтешь его по возвращении домой.
Тут его увлекла за собой толпа людей. Прошло еще два года.
Я гостила у Ларса на его острове, когда вдруг позвонил Ингмар.
— У меня есть для тебя фильм,— сказал он.— Он будет об отношениях матери и дочери.
— Хорошо, Ингмар. Ты не обиделся, что я положила письмо тебе в карман?
— Напротив, ты правильно сделала, так как я сразу же все вспомнил, прочитав твою записочку, и работал, думая о нашем разговоре. Ты ничего не имеешь против того, чтобы сыграть роль матери Лив Ульман?
— Конечно, нет.
— Мои друзья говорят, что ты будешь против, так как Лив Ульман по возрасту не годится тебе в дочери.
— Вовсе нет. У меня есть дочь как раз ее возраста.
— Я хочу сделать фильм на шведском языке.
— Отлично.
— Мои друзья думают иначе. Они считают, что для тебя было бы лучше, если бы фильм был на английском языке. Тогда бы его увидел весь мир.
Меня начали утомлять мнения друзей Ингмара.
— Они не правы,— сказала я.— Они абсолютно не правы. Я хочу, чтобы картина была сделана на шведском языке. После того, как столько лет я играла на английском, французском и итальянском языках, мне будет очень приятно работать на своем родном языке.
Когда я получила сценарий, меня охватило смятение. Он был таким длинным, что его хватило бы на шестичасовой фильм. Идея и замысел картины мне понравились: они никогда не вызывали у меня сомнения. Но в сценарии всего было слишком много. Я позвонила Бергману, и он сказал: «Я написал все, о чем думал. Конечно, придется кое-что убрать. Не можешь ли ты приехать ко мне летом на Форе, чтобы все обговорить?»
Я согласилась, хотя всегда боюсь показаться навязчивой по отношению к шведам. Настоящий отдых для них состоит в том, чтобы провести его вдали от других людей, а вернувшись домой, сказать: «Все было великолепно. За все время мы не видели ни одного дома, ни единого человека». Моим детям было чуждо такое увлечение шведов одиночеством. В Италии рассуждают иначе: чем больше народу, тем лучше.
Форё — это ровная низменность, на которой растут деревья и бродят овцы. Там есть церковь, магазинчики, а от одного дома до другого добираются на машине. Рядом с домом Ингмара расположен причал. Ингмар встретил меня на аэродроме.
Рассказывает Ингмар Бергман: «Я поехал на аэродром, чтобы встретить Ингрид. Она села в машину, и едва я успел включить скорость, как она сказала: «Ингмар, мне не нравится то-то, то-то и то-то в твоем сценарии. Разве может мать говорить так, как это написано у тебя? Она говорит так жестоко».
— Это длинная история,— ответил я.— К тому же это её манера так говорить.
Какое-то время мы ехали молча, и я должен признаться, что был несколько обескуражен тем, что Ингрид говорила так прямо. Потом она сказала:
— Ингмар, я должна сказать тебе одну вещь, прежде чем мы начнем работать вместе. Я всегда сначала говорю, а потом думаю.
Эти ее слова показались мне удивительной и несколько необычной откровенностью, что стало ключом к нашим взаимоотношениям, так как ее совершенно внезапная реакция, которая не всегда кажется тактичной, объясняет ее человеческую сущность. Когда Ингрид говорит, ее надо слушать. Вначале иногда может создаться впечатление, что это звучит глупо и бессмысленно, но потом оказывается, что это совсем не так. Ее надо слушать, потому что эта ее внезапная реакция очень важна.
Я видел все фильмы, сделанные с Ингрид в Америке. Единственно, что я не посмотрел, так это американскую версию «Интермеццо» с Лесли Хоуардом [Речь идет о фильме американского режиссера Грегори Ратоффа «Интермеццо» (1939), представлявшего собой римейк одноименной картины, снятой в 1936 году шведским режиссером Густавом Муландером. В обоих фильмах главную женскую роль исполняла Ингрид Бергман. Картина Г. Ратоффа неоднократно демонстрировалась по советскому телевидению]. В те времена я был молодым режиссером, и мы все были увлечены американскими фильмами и американской кинотехникой.
Некоторые из первых фильмов Ингрид, снятых в Америке, честно говоря, не были произведениями искусства, но я очень хорошо помню, что всегда был захвачен выражением ее лица, что бы она ни делала. Ее лицо, кожа, глаза, рот и особенно губы излучали нечто необыкновенное и обладали огромной эротической силой воздействия.
Я всегда считал, что с ней обошлись очень несправедливо в Швеции, куда она привезла ораторию «Жанна д'Арк на костре» (оратория Онеггера, поставленная Роберто Росселлини с Ингрид Бергман в главной роли). Мне кажется, что тут дело было в режиссуре; у меня создалось впечатление, что Жанна — это ее собственное творение. Поэтому было отвратительно, что все критики объединили свои усилия, чтобы уничтожить ее. Это было не только несправедливо, это была своего рода месть. Ингрид добилась большого успеха, и это очень злило шведов, особенно когда этот успех, как это было в истории с Ингрид, не пытались скрыть. В Швеции вообще не афишируют свои успехи, так как люди, получающие от этого удовольствие, вскоре становятся непопулярными. Мне кажется, что реакция в отношении Ингрид была типично шведской: ее хотели поставить на место. Когда живешь за пределами Швеции, все это выглядит забавно со стороны; но когда тебя шельмуют в твоей же стране, даже если ты знаменит во всем мире, мнение всего остального света не имеет значения. Всегда бывает больно, когда тебя так отделывают в Швеции.
Я это знаю по собственному опыту».
По дороге с аэродрома я рассказала Ингмару, что Роберто [Роберто Росселлини, итальянский кинорежиссер, в то время — муж Ингрид Бергман] никогда не разрешал мне сниматься у других режиссеров, кроме Жана Ренуара, и как недавно я набралась мужества и сказала Роберто, что буду играть в фильме Бергмана. Я даже попыталась заткнуть уши, ожидая вспышки гнева у Росселлини, но вместо этого увидела слезы в его глазах. К моему удивлению, он сказал: «Отлично, очень правильно — и ты должна сыграть в нем на шведском языке».
Рассказывая об этом Ингмару, я взглянула на него: он остановил машину, потому что теперь у него в глазах были слезы. У этих двух людей было много общего.
Мы подъехали к дому Ингмара, и я познакомилась с его женой, которую тоже зовут Ингрид. Так что у нас за обедом было две Ингрид Бергман. Мы условились встретиться на следующий день в 10.30 утра. Я встала рано, поплавала в его бассейне, прогулялась по лесу, восхищаясь природой, и ровно в 10.30 была в кабинете Ингмара. Открыв сценарий, я сказала: «Как это мать могла не видеть своих детей семь лет?»
Ингмар громко рассмеялся.
— Слава богу, что ты начала не с первой страницы,— сказал он.
Фильм «Осенняя соната» рассказывает о всемирно известной пианистке, вернувшейся в Норвегию, чтобы повидаться со своими дочерьми. Одна из них (ее играет Лив Ульман) замужем за священником и живет в деревне. Другая дочь страдает физической неполноценностью, ей трудно общаться с другими людьми. Она живет у сестры и шурина. В полночь героини Лив и Ингрид встречаются внизу, в гостиной, и между ними происходит одна из самых тяжелых эмоциональных сцен, когда-либо поставленных в кино.
Ингмар был убежден, что весь его фильм рассказывает о любви: о любви или ее отсутствии, о стремлении любить, о превратностях любви, о любви, которая единственно дает нам шанс выжить. Вероятно, он был прав. Почти прав, во всяком случае. Но я возражала: «Твой сценарий действует крайне удручающе. У меня самой три дочери, конечно, между нами иногда бывают столкновения, но то, что ты написал! Нельзя ли, например, немного пошутить в некоторых сценах?»
— Нет,— сказал Ингмар.— Никаких шуток. Ведь мы будем ставить не твой сценарий. У меня речь идет о Шарлотте, концертирующей по всему свету пианистке.
— Но как можно семь лет не видеть своих дочерей?! Ведь одна из них калека, и она умирает. Я не могу поверить в такое.
Лив и я, обе матери, пытались спорить с ним. Я говорила: «Ингмар, видимо, люди, с которыми ты общаешься,— монстры». Но ничего не помогло. Его нельзя было поколебать.
Рассказывает Лив Ульман: «Я снялась в двенадцати фильмах у Бергмана, поэтому, когда он позвонил и сказал, что надеется уговорить Ингрид Бергман сниматься в нашем фильме, я была очень рада. Он считал, что содружество Ингрид — Лив будет удачным, учитывая все то общее, что есть между нами. Он также ищет общее между собой и своими артистами, потому что нам приходится примерять к себе многое из того, что присуще ему. Я с нетерпением ждала встречи с Ингрид Бергман как с человеком и работы с ней как с актрисой, поскольку так же, как и многие в мире, чувствовала, что уже почти знакома с ней.
Знакомство с Ингрид стало для меня событием огромной важности, так как я считала, что женщина, пережившая столько, вероятно, должна быть переполнена горечью, а к тому же, будучи еще и голливудской кинозвездой, и сентиментальностью.
Но вместо этого я увидела самую непосредственную из когда-либо встреченных мною в жизни женщин, и это я говорю совершенно честно.
Сначала, конечно, было много споров между Ингрид и Ингмаром: ведь Ингмар привык ко мне и к другим постоянным членам нашей киногруппы. Мы понимаем друг друга без слов, не подвергая сомнению ничего из того, что он говорит. Ингрид же со свойственной ей исключительной прямотой сразу же начала ставить под сомнение отдельные места в сценарии.
— Мы не можем говорить так много, здесь надо кое-что вычеркнуть!
К концу чтения сценария вся наша киногруппа, все те, кто так хорошо знал Ингмара, готовы были провалиться сквозь землю. Я помню, что вышла в другую комнату и заплакала, так как была уверена, что у нас ничего не получится. Ингмар не привык к такому обращению, Ингрид тоже не сможет держаться иначе, раз она так прямолинейна. Я переживала за них обоих, конечно, все же больше за Ингмара, потому что знала его ранимость во всем, что касалось его сценариев. Он и сам часто думает: «А хорошо ли это?» Но если это ему скажет кто-нибудь другой, он впадает в отчаяние. Итак, я стояла в комнате и плакала, когда появился Ингмар. Он был похож на собаку, пережидавшую бурю и дождь в будке. Он сказал: «Не знаю, что мне делать. Неужели сценарий так уж плох?» «Нет,— ответила я,— и Ингрид тоже, безусловно, так не считает. Она просто еще не привыкла к тебе, а ты — к ней. Но вы, возможно, еще сможете найти общий язык!»
Нас было всего пятнадцать человек, работавших над «Осенней сонатой» на одной из киностудий в Осло, и две трети составляли женщины. Ингмар считает, что женщины более эффективны в работе и не так истеричны, как мужчины. Но сам Ингмар умеет добиваться такой собранности и доверительной атмосферы на съемочной площадке, благодаря которым он достигает необходимой для него интенсивности в работе, и это-то и делает его тем большим художником, каким он является. Создается впечатление, что он совсем не ест, а живет на одном кислом молоке, очень мало спит, а только и делает, что думает.
Кого бы мне ни приходилось играть, даже если это женщина, ничего общего со мной не имеющая, я должна ее понять. Так, например, в фильме «Визит» [«Визит» (1964) — фильм западногерманского кинорежиссера Бернхарда Викки] я играла женщину, одержимую жаждой мести: она хотела, чтобы человек, разбивший ей жизнь, умер. Мне совсем не свойственна подобная одержимость, но я могла понять эту женщину. Вполне возможно, что такое могло быть; я могла понять такое чувство и выразить его. Но я не могу играть то, чего не чувствую, а в «Осенней сонате» было много такого, что мне было непонятно и казалось неправдоподобным.
Вспоминает Ингмар: «Я пытался объяснить Ингрид, что не все люди похожи на нее. Тебе придется сыграть совсем другой тип матери, нежели ты сама, но ничего не поделаешь, хоть Шарлотта и будет для тебя нелегкой ролью, тебе все же надо будет научиться поступать так, как она, и так же воспринимать действительность. Я здесь для того, чтобы помочь тебе, и, возможно, вместе нам удастся сделать это. Вместе с тем мне казалось несколько странным, что все то, против чего восставала Ингрид, было очень близко ее натуре. Иногда она была очень резкой в своих суждениях, и это сближало ее с Шарлоттой».
Я продолжала возражать Ингмару: «Семь лет! Не видеть своих детей семь лет! Это невозможно!»
Чтобы заставить меня замолчать, он изменил в сценарии цифру семь на пять, хотя потом, уже в окончательном варианте фильма, я снова услышала: семь лет. Он продолжал настаивать: «Конечно же, есть такие женщины, которые могут быть вдали от своих детей так долго. Они не хотят иметь с ними хлопот и слышать об их проблемах. Они заняты своей карьерой, своей собственной жизнью, а все прочее отметают. Как раз об этом и рассказывает наш фильм. О таких женщинах».
Его не интересовало, что все мои друзья вокруг говорили: «Наконец ты играешь самое себя!»
Вспоминает Ингмар: «В одной из сцен «Осенней сонаты» — ночном разговоре между дочерью и матерью — последняя чувствует себя совершенно подавленной. Она окончательно сломлена и обращается к дочери, которая дождалась своей мести: «Я не могу больше. Помоги мне. Дотронься до меня. Ты не можешь меня любить? Не можешь попытаться понять меня?» Она говорит это безжизненным голосом, до предела обнажая свое внутреннее состояние. Эту сцену мы репетировали в Стокгольме, прежде чем приступить к съемкам в Осло. У Ингрид, как и у меня, осталось чувство неудовлетворенности от исполнения этой сцены. Затем надо было снять этот материал. Установили камеру и свет. Сделали перерыв, чтобы выпить кофе. Я сидел и разговаривал со Свеном Нюквистом [Постоянный оператор фильмов И. Бергмана], когда к нам вдруг подошла Ингрид. Она стояла передо мной вне себя от бешенства.
— Ингмар! — сказала она.— Ты должен объяснить мне эту сцену! Ты не можешь вот так взять и бросить меня. Ты должен объяснить мне ее!
Она была очень взволнованна. В интонациях ее сквозила злость.
Не помню, что я говорил. Не думаю, что это было что-нибудь важное, но именно вспышка гнева у Ингрид была попыткой с ее стороны найти правильные интонации и мотивировку для исполнения этой сцены. В этом я убежден».
Я очень хорошо помню эту вспышку гнева. Я подошла к Ингмару и крикнула: «Я не могу сыграть эту сцену! Я не чувствую ее!» Рядом с ним сидела Лив, она встала и быстро вышла, но скоро вернулась обратно. У нее на губах играла эдакая легкая улыбочка: она хотела увидеть, чем все кончится.
Он вскочил и пошел прямо на меня. Он тоже был вне себя, но инстинктивно я чувствовала, что он понимает меня. И он ответил правильно: «Если бы ты оказалась в концентрационном лагере, ты бы говорила все, что угодно, лишь бы получить помощь!»
Я поняла его мысль сразу же и почувствовала безнадежность и безмерность своего поражения и отчаяния. Да, именно так должны были, вероятно, себя чувствовать люди в концентрационном лагере. Теперь я могла сыграть эту сцену.
Ингмар любит артистов. Всю свою жизнь он пробыл в театральной среде и поэтому относится к ним, как к своим маленьким детям. Ему так хочется, чтобы им было хорошо. И мы, артисты, знаем, что он страдает вместе с нами и за нас. Когда мы продираемся через дебри трудных сцен, он помогает нам в этом. Достаточно бывает посмотреть ему в глаза, чтобы узнать его мнение: «Это было нехорошо! Но зато вот это...» — и в глазах у него начинают блестеть слезы.
Конечно, как режиссер он иногда проговаривает какие-то реплики, но он не похож на тех, кто проигрывает всю сцену и произносит весь текст, пока тебе не начинает казаться, что уж лучше было бы им самим сыграть за тебя эту роль. Он лишь слегка намечает рисунок роли, давая представление о том, что бы он хотел здесь увидеть. Он не тратит энергию зря и сразу же видит, если не убедил собеседника, чтобы остановиться и узнать, что было непонятно. Или же он может сказать: «Больше мы не будем репетировать. Получилось». Иногда он спрашивает: «А как ты думаешь?» И выслушав тебя, скажет: «Это совершенно неверно» — и объяснит так, что сразу же все встанет на свои места. Он никогда не повышает голоса, во всяком случае во время съемок нашего фильма этого не было.
Камера у Бергмана всегда работает на крупных планах, фиксируя малейшее движение мысли на лбу, в глазах, в линиях рта или подбородка. В определенном смысле это было для меня в новинку. Я так долго играла в театре, а ведь там ты играешь и для зрителей, сидящих очень далеко, что привыкла к крупным жестам и громкому голосу. С другой стороны, я знала, чем чреват крупный план: он может создавать нюансы, которые совсем не были задуманы вначале. Так в «Касабланке» [«Касабланка» (1943) — фильм режиссера Майкла Кёртица] мое лицо зачастую просто ничего не выражало, абсолютно ничего. Но зрители видели в нем то, что хотели увидеть, читали те мысли, которые им хотелось прочитать. Они играли вместо меня.
Вспоминает Ингмар: «Постепенно я стал понимать, что Ингрид крайне необходимы спокойствие, нежность и контакт. Я был для нее чужим, она не доверяла мне полностью. Поэтому мне надо было показать, что же я в действительности испытываю по отношению к ней. Невозможно себе представить, но у меня возникло чувство, что больше нет нужды быть вежливым или выбирать стратегию, или дипломатические ходы, или же подыскивать правильные выражения. Я почувствовал себя полностью раскованным. Сердился, когда чувствовал приступы гнева, иногда даже бывал жестоким с ней, проявлял режиссерский деспотизм. Но одновременно я давал ей понять, как глубоко я ее люблю.
Мы не понимали друг друга лишь в первые дни — во время репетиций, которые длились около двух недель. Потом у нас не было никаких осложнений: у нас установился общий ток крови в процессе совместной работы, чувства бурлили и затихали, все проблемы решались.
Кроме того, я думаю, что она за это время узнала то, о чем раньше не подозревала. На студии работало много женщин, и это был первый фильм, когда она смогла ощутить сестринскую заботу со стороны других женщин, особенно со стороны Лив, что также не могло не повлиять на ее эмоциональное состояние.
Я был знаком с Ингрид всего лишь три года, но тем не менее у меня было чувство, что знаю ее всю жизнь. Мы относились друг к другу как брат к сестре, и это была не шутка, мы считали именно так, и иногда у меня возникало чувство, что она моя сестра. Чаще — младшая сестренка, о которой я должен заботиться, а иногда — старшая, преисполненная здравого смысла и вразумляющая своего младшего брата, который ведет себя не так, как надо.
Кто-то сказал о ней: «Ингрид повенчана с камерой, и камера ее любит». Это правда. Камера любит настоящих киноартистов, она ищет их лица, передает их эмоции, устремляется вслед за движением их рук и тела. У камеры есть свои фавориты. Она беспощадна к тем людям, которых она не любит. Объяснить это нельзя. Артист может быть единственным в своем роде, несравненным на сцене, но дайте ему сыграть ту же самую роль перед камерой, и он не произведет никакого впечатления. Камера замрет. Она будет как бы мстить, распознав в нем мертвеца.
Я глубоко сожалею, что мы не встретились с Ингрид раньше на съемочной площадке, потому что она обладает способностью зажигать и побуждает меня писать для нее роли. В «Осенней сонате» я нахожу наиболее удачной ту сцену, где она садится и рассказывает о своем друге, умершем в больнице, и об их последней ночи. Сколько бы раз я ни смотрел эти кадры, они всегда кажутся мне удивительными: в них она ни в чем не нарушает гармонии и очень тонко заканчивает весь эпизод. Для меня эта сцена в фильме останется одной из самых прекрасных за всю мою режиссерскую жизнь».
Два года спустя, летом 1979 года, я снова приехала на Форё навестить Ингмара. Тогда он показал мне длинный документальный фильм, в котором он заснял работу над «Осенней сонатой». Я даже не обратила внимания, как это происходило, так как операторы и технический персонал всегда были заняты своим делом, и они часто пребывали где-то за моей спиной, так что я не могла видеть камеру.
Я увидела себя такой, какой раньше никогда не знала. Это явилось для меня полным откровением. «Мне бы следовало посмотреть этот фильм до начала нашей работы»,— сказала я Ингмару. Но на самом деле мне бы следовало посмотреть его сорок лет назад. Тогда, возможно, со мной было бы легче иметь дело. Я и не предполагала, что могу доставлять столько хлопот: безостановочно говорю, постоянно возражаю. Все это выглядело очень неприятно. Но, вероятно, полезно увидеть себя такой, какая ты есть на самом деле. Приходится лишь надеяться, что в молодости ты была более сговорчивой. Но утверждать это я не берусь.
Документальный фильм начинается с того, что Ингмар сидит, положив ноги на стул, и говорит: «Приветствую всех. Мне очень приятно снова работать со всеми вами». Затем начинается читка сценария, и я сразу же вступаю в спор: «Это кусок самый скучный из всего того, что мне пришлось когда-либо читать. А этот слишком растянут. Здесь же я вообще не понимаю, о чем идет речь!»
Скрытая камера показывает в этот момент лицо одной из женщин из административного персонала: она смотрит на меня, как будто хочет убить. На ее лице написано: если Ингрид Бергман все же будет сниматься в этой картине, мы ее никогда не сделаем. Я не обвиняю ее. Если я могла вести себя подобным образом в течение первых же пяти минут, то как они смогли выдержать восемь недель?
Потом эта женщина призналась, что вовсе не испытывала тогда ко мне чувства ненависти. Она была просто потрясена, что кто-то посмел обращаться с Ингмаром подобным образом.
Ингмар пытается успокоить меня: «Так, так, Ингрид. Когда мы дойдем до этого места, мы прорепетируем и посмотрим, как оно будет выглядеть».
А вот мы стоим на полу, где размечено местонахождение каждого человека, и я снова начинаю спорить: «Как это так? Лежать на полу? Зачем? Ты в своем уме, ведь публика будет смеяться!» Наконец мы приступаем к съемкам, и здесь я выгляжу несколько лучше.
Подумать только, несмотря на то, что я сама участвую в этом документальном фильме, он производит удивительное впечатление. Это все равно что посмотреть детектив. Получится ли у нас? Сможем ли мы сработаться? Безусловно, это был самый замечательный из когда-либо виденных мною документальных фильмов о том, как снимают картину, хотя моя роль в нем, как бы это помягче сказать, весьма сомнительна. Ингмар намерен передать его со временем в Шведский киноинститут.
Мне было очень приятно работать с Ингмаром и Лив, со всей их группой. Они были так не похожи на других, относились к работе с такой серьезностью.
До конца съемок оставалось две недели, когда я обнаружила опухоль под мышкой. Я поняла, что болезнь прогрессирует, и стала ужасно нервничать, мое состояние не осталось незамеченным.
Однажды Ингмар подошел ко мне и сказал: «В чем дело? Чем ты обеспокоена?» Я ему рассказала, что мне было нужно снова лечь в больницу.
Ингмар все понял: «Я сразу же сокращу число съемок с твоим участием. Тебе не надо будет сниматься в эпизодах на природе. Мы просто оденем кого-нибудь в твою одежду, а сцену, над которой мы сейчас работаем, мы снимем в павильоне, в студии, чтобы ты сразу могла уехать в Лондон».
Я снялась во всех сценах, где это надо было Ингмару, и улетела в Лондон.
Перевод со шведского Н. Е. Френкель
Posted by Elena Kuzmina at Tuesday, June 29, 2010
Франція-ФРГ-Швеція, 1978, драма Режисер: Інгмар Бергман
Актори: Інгрид Бергман, ЛІв Ульман, Лена Нюман, Хальвар Бьорк, Маріанне Амінофф, Арне Банг-Хансен, Гуннар Бьорнстранд
Шарлота, всесвітньо відома піаністка, тільки що втратила Леонардо - людину, з якою жила багато років. Вражена його смертю , залишившись на самоті,приймає запрошення своєї дочки Єви приїхати до неї в Норвегію погостювати в заміському будинку. Там її чекає неприємний сюрприз: крім Еви, у будинку перебуває її друга дочка - Хелен, яку Шарлотта помістила в клініку для душевнохворих. Напруженість між Шарлоттой й Евой зростає, поки одиного разу вони не зважуються висловити один одному все, що нагромадилося за довгі роки.